Эволюция греха и добродетели
 Вышла в свет новая книга Эдварда Уилсона. (О его дискуссиях с Ричардом Докинзом по поводу того, реален ли групповой отбор, см. «Химию и жизнь», 2008, № 5.) Эдвард Уилсон — теоретик и натуралист, «отец социобиологии», автор множества книг об эволюции социальности. Взгляд его тем более ценен, что основная область его научных интересов — биологические виды, которые создали высокоорганизованные сообщества десятки миллионов лет назад, задолго до того, как Homo sapiens появился на эволюционной арене: муравьи. Писал он также о происхождении разума и культуры. Вот лишь несколько названий: «Gene, Mind and Culture. The Coevolutionary Process» (в соавторстве с Чарльзом Лумсденом), «On Human Nature» (эта книга принесла Уилсону его вторую Пулитцеровскую премию, первая была за книгу о муравьях).
Вышла в свет новая книга Эдварда Уилсона. (О его дискуссиях с Ричардом Докинзом по поводу того, реален ли групповой отбор, см. «Химию и жизнь», 2008, № 5.) Эдвард Уилсон — теоретик и натуралист, «отец социобиологии», автор множества книг об эволюции социальности. Взгляд его тем более ценен, что основная область его научных интересов — биологические виды, которые создали высокоорганизованные сообщества десятки миллионов лет назад, задолго до того, как Homo sapiens появился на эволюционной арене: муравьи. Писал он также о происхождении разума и культуры. Вот лишь несколько названий: «Gene, Mind and Culture. The Coevolutionary Process» (в соавторстве с Чарльзом Лумсденом), «On Human Nature» (эта книга принесла Уилсону его вторую Пулитцеровскую премию, первая была за книгу о муравьях).
Новая книга, «The Social Conquest of Earth» (2012, Liveright Publishing Corporation, New York), — «Социальное завоевание Земли», точнее, покорение Земли социумами. Главная ее тема — каким образом в ходе эволюции мог возникнуть столь странный феномен, как сообщество индивидов, в каких условиях и под воздействием каких сил «здоровая конкуренция» уступает место сотрудничеству. В сущности, это вопрос о происхождении человечества.
«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»
Так называется картина Поля Гогена, воспроизведенная на обложке книги. Фигуры, символизирующие периоды человеческой жизни — рождение, самоосознание, любовь к другим людям, угасание и смерть, — и загадочный идол на втором плане. Главные вопросы — почему человек таков, какой он есть, в чем причина и смысл и что за силы управляют его бытием. Эдвард Уилсон уверен, что биология в состоянии предложить удовлетворительные ответы.
Еще и сегодня многие уверены, что дарвиновская эволюция — это прежде всего борьба за существование, гибель слабых и выживание сильнейших, тогда как бескорыстная помощь другому, да и вообще кантовский нравственный закон — изобретение человеческого разума. А возможно, и надчеловеческого, уж очень он далек от всего, что мы видим в природе. И в самом деле, связи, соединяющие каждого из нас с собратьями по виду, уникальны. (Конечно, в животном мире есть связи между кровными родственниками, между ровесниками в группе, между доминантом и подчиненной особью, однако ниточка между Эдвардом Уилсоном и читателем «Химии и жизни» — чисто человеческое изобретение, и это лишь один пример из тысячи.) Уникальна и взаимопомощь людей, не ограниченная кровными родственниками. Но как быть с представителями примитивных племен, которые Канта не читали, однако о больных и раненых заботятся, жизнью ради друзей рискуют? И как быть с муравьями и пчелами?
«Цивилизация звездных войн с эмоциями каменного века, средневековыми общественными установлениями и богоподобными технологиями» — почему мы такие? Уилсон уверен, что религиозные представления о сотворении человека, о его изначальной двойственности как итоге грехопадения не помогут это объяснить: тут он солидарен со своим вечным оппонентом Докинзом. Правда, в отличие от Докинза он не отказывает религии в приспособительной ценности, не считает ее «паразитом мозга» — и самый примитивный миф объединяет племя, дает его членам уверенность, но в задачу мифотворца не входит поиск фактов.
Точно так же, по мнению Уилсона, не справятся с задачей ни интроспекция (большая часть процессов в мозгу не осознается мозгом, затем что мышление появилось в ходе эволюции не для самопознания), ни нейрофизиология, отвечающая на вопрос «как?», а не «по какой причине?», ни современная философия, после заката логического позитивизма предпочитающая области, не освоенные естественными науками.

|
| Эдвард Уилсон |
Тем не менее «существует правдивая история творения, и только одна, и она не миф». В частности, ее отрезок, посвященный возникновению человечества, вполне поддается реконструкции.
Уилсон ставит два фундаментальных вопроса: почему высокоразвитая социальная жизнь вообще существует (а социальные виды — большая редкость) и какие движущие силы отвечают за ее появление? В поисках ответа он предлагает обратиться к социальным видам насекомых — логично предположить, что их поведение сформировали те же силы. «Мало нам обезьян?» — с возмущением скажет кто-то. Но изучение насекомых не раз помогало биологам понять закономерности, важные и для позвоночных, вспомним хотя бы дрозофилу.
Путь сквозь лабиринт
Следующую часть Уилсон так и называет — «Откуда мы пришли». Автор напоминает читателю, что наши предки на многих этапах своей истории были весьма немногочисленными — современные нам виды, представленные таким жалким количеством особей, мы считаем охраняемыми. Кроме того, на протяжении значительной части нашей истории нас сопровождали сестринские виды, по каким-то причинам не добившиеся успеха. Автор полушутя строит предположения о том, что было бы, если б сегодня нам пришлось сосуществовать с другими видами разумных: «Гражданские права для неандертальцев? Специальное образование для «хоббитов»? Спасение и небеса для всех?»
Как бы то ни было, человечество завоевало землю, и произошло это стремительно. К примеру, у муравьев, пчел, термитов социальность формировалась десятки миллионов лет — за это время другие виды успели коэволюционировать, приспособиться к устрашающему обилию представителей одного вида в лесной подстилке или на цветущем лугу. В случае с человеком у природы такого шанса не было. Наше сельское хозяйство возникло всего около 10 тысяч лет назад и привело к небывалому взлету численности людей.
Если бы Землю посетили инопланетные ученые 3 миллиона лет назад, они, конечно, исследовали бы редких приматов, которых мы называем австралопитеками, но остались бы при убеждении, что насекомые — лучшее, на что способна планета Земля в плане социальной организации животных. На протяжении сотен миллионов лет у муравьев, пчел и термитов конкурентов не было. И вдруг все начало стремительно меняться: у одного из видов обезьяноподобных прямоходящих резко вырос объем головного мозга, они завоевали Землю, уничтожили близкие конкурирующие виды и стали подлинной геофизической силой, способной разрушить собственную среду обитания. То-то сюрприз для биологов с Альфы Центавра. В чем причина столь внезапных перемен?
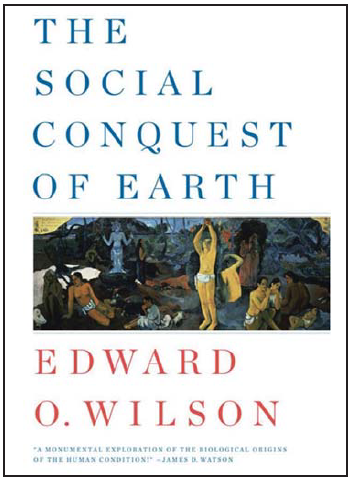
|
| "Монументальное исследование биологических истоков человеческой сущности!" - Джеймс Уотсон |
Отдельно взятый эволюционный путь, пишет Уилсон, не может быть предсказан, ни в начале, ни на его поздних этапах. (Хотя мы в состоянии сказать, какие пути развития точно не реализуются: потомки свиней могут стать водоплавающими, но летать они не будут никогда.) Эволюция подобна пути через разветвленный лабиринт, и вид «выбирает» на каждой развилке, какой из вариантов признака разовьется у его потомков. Вдобавок и сам лабиринт изменяется со временем, одни коридоры, то есть экологические ниши, появляются, другие исчезают. Но в том лабиринте, который мы уже прошли, постфактум мы можем отметить, где выбрали правильные повороты.
Автор подчеркивает, что наши предки — не избранные, а всего-навсего везучие. Каждый шаг на нашем пути в своей время был не подготовкой к грядущему величию человека, а адаптацией к конкретным условиям.
Прямохождение, огонь, очаг
Первой такой адаптацией стал достаточно крупный размер наших далеких предков. Как крупный, так и мелкий размеры могут быть полезными для выживания, но только у крупного животного в принципе может развиться крупный головной мозг, и только крупный размер позволит в перспективе научиться контролировать огонь. Обе эти возможности изначально были закрыты для насекомых, закованных в хитиновые панцири (впрочем, у них есть свои плюсы, например огромный репродуктивный потенциал и способность к полету). Кстати, по этой же причине — недоступность огня — в первом же туре сошли с дистанции все обитатели воды, сколь угодно умные.
Вторым важным поворотом был переход к жизни на деревьях (70—80 миллионов лет назад). Наши предки обзавелись цепкими хватающими лапами с мягкими пальчиками и ладошками (это существенно; Уилсон даже советует писателям- фантастам: «Не забывайте снабдить ваших инопланетных пришельцев мягкими ручками, или щупальцами, или еще какими-нибудь мясистыми отростками») Другие важные признаки — склонность к разнообразному рациону, цветное бинокулярное зрение, необходимое, чтобы разыскивать спелые плоды и верно оценивать расстояние до ближайшей ветки. В то же время у древесных животных меньше потомков, и они дольше нуждаются в заботе. Как мы увидим далее, это не обязательно плохо.
Третьим шагом был спуск с дерева — переход к бипедальности (хождению на задних конечностях) и освобождение передних лап для переноски еды и детенышей. Этот поворот лабиринта так и не смогли отыскать другие крупные млекопитающие, хищные и травоядные, с их копытами и когтями. Хотя потенциал у некоторых из них был, например у африканских диких собак, которые живут стаями и даже практикуют разделение труда — одни защищают общее логово, другие ходят на охоту, совсем как наши далекие предки.
Те, кто пришли потом, уже назывались австралопитеками. Они приспосабливались к дальним переходам на двух ногах — изменялось строение таза, удлинялась шея, позволяя эффективнее обозревать пространство. Путешествовали они группками, мозг у них был не намного больше, чем у шимпанзе, но они уже не опирались на костяшки пальцев, и длинное вертикальное туловище удивительным образом сохраняло равновесие.
Важным событием стало также увеличение доли животной пищи в рационе наших предков (1,8 —1,6 миллионов лет назад, уже после австралопитеков). Сначала это, скорее всего, была падаль, потом и охотничья добыча. Кроме мяса, наши предки могли собирать ракушки на берегу, ловить рыбу в пересыхающих африканских озерцах. Как пишет автор на основании собственного полевого опыта, он сам вполне мог бы руками наловить достаточно рыбы, чтобы угостить целое племя Homo habilis — конечно, при условии, что дальние родичи не испугаются его огромных размеров и круглой головы.
Если травоядные животные были непревзойденными спринтерами, то наши предки стали отличными бегунами на длинные дистанции — с уникальным строением ноги и почти без шерсти, чтобы тело лучше охлаждалось. Недаром бег — одна из самых древних радостей человека, как и еще одно древнее занятие — метание в цель. Попасть камнем в добычу не такой уж интеллектуальный подвиг — швыряться камнями умеет как минимум одна популяция современных шимпанзе, но все же это занятие способствовало развитию руки и мозга.
Домом наших предков была саванна — обширное пространство, покрытое травой, с редкими группками деревьев, на которые можно при случае залезть, холмами, с которых удобно высматривать опасность или добычу, и водоемами для питья. (Кстати, именно такие пейзажи — зеленеющие просторы, деревца у речки или озера, и желательно в ракурсе сверху вниз — кажутся наиболее привлекательными современным сапиенсам, выбирающим, какую картинку повесить в офисе.)
Наконец, четвертый шаг — овладение огнем. И сейчас трава в саванне горит от попадания молнии, а австралийские аборигены иногда специально распространяют огонь, чтобы он «помог» им загнать добычу. Вероятно, то же делали и наши предки.
Пятым и, по мнению автора, наиболее важным этапом было возникновение эусоциальности, «истинной социальности» — несколько поколений особей остаются вместе, практикуют разделение труда, действуют альтруистически по отношению друг к другу. Первые стоянки человека — охраняемые места длительного проживания — появились не позднее миллиона лет назад, а возможно, и раньше, еще у H.habilis. Ядром такой группы, очевидно, становилась расширенная семья плюс самки из соседних групп, вступившие в брачные союзы с самцами.
Чтобы особи жили вместе, в этом месте должно быть что- то, что нужно охранять. Например, беспомощные детеныши и беременные самки (следствие нашей бипедальности в сочетании с большим, медленно развивающимся мозгом — оказывается, уязвимость детенышей не только помеха, но и фактор, стимулирующий развитие общества). А еще — огонь, который необходимо поддерживать. Надо было как-то договариваться, кто останется охранять лагерь, кто присмотрит за детьми, кто за огнем, кто побежит за добычей. А привычка к мясному рациону требовала координации действий во время охоты. Групповая охота вообще редкость у млекопитающих (кроме приматов, это считанные представители отряда хищных). Шимпанзе и бонобо, охотящиеся на мелких обезьян, тоже практикуют достаточно сложную стратегию — отделяют намеченную жертву от сородичей, окружают, чтобы отсечь пути отхода, сгоняют с дерева, на земле убивают и разрывают на части (и иногда даже делятся с сородичами, не принимавшими участия в охоте). Но шимпанзе получают из мяса примерно 3% калорий, человек же в условиях свободного выбора — 30%. Наши предки охотились чаще и в более сложных условиях открытого пространства. А бывало и наоборот — на них охотились хищники.
Все это способствовало развитию необычных для животного мира свойств: социального интеллекта, то есть способности «вычислять» мысли и намерения сородича, адекватно оценивать характер взаимоотношений каждого с каждым, помнить прошлые поступки. Развивалась и эмпатия — способность представлять себе состояние другого, «а если бы тебя так?». Эти уникальные свойства и обусловили последний рывок по направлению к человеку разумному, каким мы его видим в зеркале. В некий момент что-то резко изменилось — началась неолитическая революция, мигрирующие приматы взяли планету в свои передние лапы. То ли, как писали популярные в прошлом веке философы, количество перешло в качество, то ли возникла и распространилась некая полезная мутация (впрочем, эти версии не являются взаимоисключающими).
Теперь понятно, почему разумные виды редки: потому что невелика вероятность правильного прохождения «лабиринта». Понятно и то, почему развитие человека на последних этапах совершалось так стремительно, подобно развернувшейся пружине: у нас уже было все необходимое, хотя каждый отдельный признак возник в ходе эволюции для других надобностей. Многие авторы любят писать, что человека сделала человеком мясная диета, или прямохождение, или преодоление страха перед огнем. Но ни одна из преадаптаций ничего не решала сама по себе, они могли сработать только вместе.
Родство или дом?
Нетрудно представить, что группа, которая состоит из индивидов, склонных к взаимопониманию и взаимопомощи, умеющих действовать не только ради персональной сиюминутной выгоды, получает преимущество перед группой себялюбивых тупиц, и если социальный интеллект определяется генетическими факторами, то при этом увеличивается частота соответствующих генов. Подобные предположения выдвигал еще Дарвин в «Происхождении человека». Но как люди объединяются в группу? Происходит ли это под действием кин-отбора, как полагают сторонники «эгоистичного гена»?
Кин-отбор означает альтруизм особи по отношению к другим особям — носителям общих с ней генов. Помогаешь носителям тех же генов, которые есть у тебя, — некоторым образом помогаешь себе. В современной теории эволюции существует понятие «совокупной приспособленности» (inclusive fitness) — приспособленность индивида плюс приспособленность родственных ему индивидов, которые передадут потомству те же гены. Представление о кин-отборе хорошо объясняет отношения между родителями и потомством, братьями и сестрами и т. п. Но, по мнению Уилсона, если говорить о более обширных группах, то модели кин-отбора работают только в весьма специфических, далеких от реальности условиях.
Уилсон предлагает теорию эволюции эусоциальности, разработанную им совместно с гарвардскими математиками Мартином Новаком и Кориной Таннитой. Подробнее о ней рассказывается в научной публикации («Nature», 2010, т. 466, № 7310, с. 1057—1062, doi:10.1038/nature09205, там же можно найти и резкие комментарии от многочисленных сторонников кин-отбора). Согласно этой теории, силой, заставляющей особей обрести социальность, оказывается охраняемое место общего постоянного проживания — лагерь, гнездо, муравейник.
Какую роль в этом играет генетическое родство? Конечно, чаще всего вместе начинают жить родственные особи. Но можно найти примеры, когда колонию основывают не родственники (у насекомых тоже), и это ничего не меняет. Теория эволюции эусоциальности разрешает включение в группу индивидов, не являющихся кровными родственниками, а возможно, и поощряет — у большой группы шансы на выживание могут быть выше. Главное, что особи по каким-то причинам вынуждены остаться вместе и сотрудничать. И если группа имеет преимущество перед одиночками и/или другими группами, то «хорошие гены социальности» поддерживаются отбором и распространяются в популяции.
Если «совокупная приспособленность» подразумевает альтруизм по отношению к носителям тех же генов — грубо говоря, чем больше родство, тем больше альтруизма, — то в модели, предложенной Новаком, Таннитой и Уилсоном, последовательность событий иная — 1) образование группы; 2) формирование признаков, полезных для укрепления группы, например, связанных с социальным поведением; 3) появление ключевых мутаций, возможно, единичных (скажем, отключающих генетическую программу удаления от сородичей, или улучшающих обмен информацией), которые придают группе стабильность. А потом воздействие отбора на новые признаки особей и группы в целом формирует социумы, изумляющие своей изощренной сложностью — наш, пчелиный, муравьиный... Родство особей, принадлежащих к одной группе, как язвительно замечают авторы, может оказаться следствием, а не причиной. Сразу предупреждаем читателя: эта точка зрения не является общепринятой, сторонники кин-отбора и не думают сдаваться. Но вернемся к книге.
Отбор на честь
Итак, пишет Уилсон, человека как вид сформировал многоуровневый отбор — индивидуальный и групповой. При этом действуют оба вида отбора то попеременно, а то и одновременно. Если выгода принадлежности к группе невелика (например, в исключительно благоприятных и стабильных условиях), то отбор благоприятствует себялюбивому поведению и отделению от группы — чего ради тратить время и ресурсы на других? Если для выживания и успешной репродукции необходимо принадлежать к группе, а для эгоистов высока вероятность вымирания, то популяция обречена на альтруизм и конформизм.
В итоге наш геном имеет химерную природу, в нашей психике заложены и альтруистические наклонности, и предрасположенность к эгоизму. То, что это скорее биология, чем результат сознательных рассуждений, видно из императивности эгоизма и альтруизма. Каждый твердо знает, что стремиться к исполнению собственных желаний хорошо. И в то же время каждый, не особо задумываясь, почему это так, чувствует, что самопожертвование, спасение ребенка, героическая гибель на поле битвы — это высоко и прекрасно (и наоборот, насмешки над альтруистом нормальным людям неприятны или даже отвратительны). То, что мы называем добродетелью, верностью, честью, нам подарил групповой отбор. То, что мы называем грехом, себялюбием, гордыней, — результат индивидуального отбора.
На всем, что делают, думают и чувствуют люди, виден отпечаток руки многоуровневого отбора. Черта, свойственная почти каждому человеку, — трибализм. Каждый из нас стремится отыскать свое племя — стать членом группы, желательно самой лучшей, какая есть на свете. С детства мы помним, как важно, чтобы тебя приняли в игру или пригласили на день рождения. Взрослые заняты поиском друзей и единомышленников (социальные сети эксплуатируют фундаментальные свойства человеческой природы, отсюда их ошеломляющий успех), стремятся в престижный колледж или в совет директоров, вступают в клубы по интересам, болеют за спортивные команды... Правда, современная жизнь гораздо сложнее, чем была в те времена, когда человек формировался как вид. Ни у кого из нас не может быть единственного племени, которому принадлежала бы вся наша верность, и это зачастую ставит нас перед нелегким выбором.
Не следует думать (как некоторые рецензенты книги Уилсона), что индивидуальный отбор — всегда «плохо», а групповой — «хорошо». Индивидуальный отбор создает индивидов, наделенных всевозможными талантами. Групповой же отбор предполагает межгрупповую конкуренцию, и тут заканчиваются разговоры о чести и добродетели. Эти понятия не распространяются на особей из конкурирующей группы (будь то соседнее племя, представители другой конфессии или граждане другого государства, люди иной расы или с иными политическими взглядами), с ними можно и нужно поступать как угодно жестоко. За примерами далеко ходить не надо, ими полна человеческая история, хоть древнейшая, хоть новейшая. Собственно, и группы шимпанзе ведут территориальные войны совершенно человеческими методами и с человеческой жестокостью, так что нет причин считать, что доисторические люди поступали иначе. Всюду, где приходилось делить ресурсы, — межгрупповая конкуренция принимала форму войны.
И в современном мире люди определяют своих и чужих по таким сугубо внешним признакам, как цвет кожи, форма носа или акцент. (Уилсон цитирует Книгу Судей Израилевых: «И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: «позвольте мне переправиться», то жители Галаадские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему «скажи: шибболет», а он говорил: «сибболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи». С этим нам еще долго жить.) Однако, и это очень важно, принадлежность к своим может определяться совершенно произвольно — не только без общих «родственных» генов, но и без каких-либо общих черт, помимо факта принадлежности к одной группе. Добровольцы, случайно объединенные в команду волей экспериментатора, оценивают членов своей команды выше других участников опыта.
Мы обречены воевать с другими группами (по крайней мере, до тех пор, пока нашим «племенем» не станет все человечество, что проблематично по многим причинам), и мы обречены на вечную войну с собственным «я». «Береги честь смолоду» — «что за честь, коли нечего есть». «Своя рубашка ближе к телу» — «сам погибай, а товарища выручай». «Моя хата с краю» — «на миру и смерть красна»... Кроме того, наше внимание постоянно приковано к другим людям. У всех нас, от первобытных охотников-собирателей до членов королевской фамилии и крупных ученых, любимое занятие — сбор информации о ближних и дальних, проще говоря, сплетни и слухи. Мы постоянно тренируемся в коллекционировании и анализе этой информации, в разгадывании оттенков отношений между людьми, в прогнозировании их поступков, в чтении мыслей, эмоций и намерений по мимике и интонации... Это — то, что мы, социальные животные, умеем лучше всех, в чем мы эксперты и что помогло нам завоевать планету. И этим трем явлениям — межгрупповой борьбе, борьбе внутри нашего «я» и многообразию межчеловеческих отношений — посвящена значительная часть произведений искусства, создаваемых нашим видом. «Наша излюбленная тема: о себе».
Социальный интеллект и склонность к альтруизму в пределах разумного (а в экстремальной ситуации и за пределами), по мнению Эдварда Уилсона, и стали пружиной, забросившей рядовой вид приматов на недосягаемую высоту. На смену кочевым примитивным племенам пришли оседлые поселенцы, народы, затем княжества и государства, и мир стал таким, каким мы его знаем. Но помнить о том наследии, которое сохраняется в нашем геноме и нашем разуме, как минимум полезно.
А как у членистоногих?
При попытке пересказать целую книгу в журнальной статье всегда приходится от чего-то отказываться, и мы только вкратце коснемся следующих глав, о том, «как общественные насекомые завоевали мир беспозвоночных».
Действительно, они тоже цари природы. Два немецких исследователя педантично взвесили всех живых существ, найденных на одном гектаре в джунглях Амазонки. Две трети массы насекомых пришлось на муравьев и термитов, еще одна десятая — на эусоциальных пчел и ос. При этом муравьи весили больше, чем все наземные позвоночные! «Двадцать тысяч известных видов общественных насекомых, главным образом муравьев, пчел, ос и термитов, — примерно 2% от общего числа известных видов насекомых (примерно миллион). Однако это мизерное меньшинство опережает остальных насекомых по численности, весу и воздействию на окружающую среду».
Уилсон рассказывает об эволюции его любимых перепончатокрылых и термитов, об их удивительных адаптациях — о муравьях-портных, сшивающих свои гнезда липкими нитями, которые выделяют личинки, о разведении тлей (все мы читали в детстве, что тли — «муравьиные коровы», но многие ли нашли время узнать больше об этом беспозвоночном скотоводстве?), о кондиционировании воздуха в термитниках, о примитивной социальности у креветок. Или о том, как в 1967 году он взял в руки кусочек окаменевшей смолы метасеквойи возрастом 90 тысяч лет, в котором были два рабочих муравья, более древние, чем все до сих пор известные, — янтарь выпал из дрожащих пальцев ученого, раскололся на два кусочка, и он застыл в ужасе, «как если бы разбил вазу династии Мин». Насекомые, к счастью, не пострадали и впоследствии получили имя Sphecomyrma, «осомуравьи» — это оказалось недостающее звено, археоптерикс мира беспозвоночных. (Муравьи произошли от одиночных ос; это не покажется таким удивительным, если посмотреть на молодую муравьиную самку с крылышками.)
Уилсон подчеркивает, что на современных эусоциальных муравьев или пчел действует индивидуальный отбор, а не групповой: правильнее считать, что конкурирует не муравейник с муравейником, а королева с королевой. Рабочие особи — это биороботы, которых создает королева, ее «мобильные органы». Правда, их геномы не идентичны геному королевы или друг другу, ведь появляются они в результате полового процесса. И это хорошо для муравейника: например, одни особи могут оказаться более устойчивыми к инфекции, чем другие. Но действие на них отбора не может закрепиться в последующих поколениях, поскольку рабочие особи бесплодны.
Интересно, что молодая королева и ее сестра — рабочий муравей генетически не различаются: появятся ли крылышки и способность к размножению или нет, зависит от пищи, которую получает личинка. Генная сеть с переключателем «крылья есть/крыльев нет» — одно из ключевых достижений социальной эволюции насекомых.
Среди перепончатокрылых есть виды с «зачаточной» социальностью — уже не одиночные, еще не достигшие сложной структуры и высокой специализации, какую мы видим у пчел и муравьев. (Очевидно, именно их стоит сравнивать с людьми — на них действует групповой отбор.) Оказывается, этот поворот совершается точно в том же месте «лабиринта», что и у человека: с появлением общего, совместно обороняемого гнезда. Если по какой-то причине две самки пчел вынуждены разделить общее убежище, они автоматически разделяют и роли: одна становится «королевой» и остается в гнезде, заодно охраняя его, другая берет на себя добычу корма. Эту ситуацию можно воспроизвести в эксперименте. Аналогичный переход в принципе может реализоваться и генетически. Например, если отключение одного-единственного гена отменит программу покидания гнезда и взрослые особи останутся в нем ухаживать за молодью, возникнет примитивный социум, готовый помериться приспособленностью с одиночками — и выиграть.
Что характерно: чем сложнее устроено муравьиное «гнездо», чем больше труда в него вложено — тем яростнее и самоотверженнее его защищают солдаты данного вида. Налицо прямая связь между местом общего проживания и альтруизмом. Разумеется, и тлей удобнее разводить, если есть постоянное убежище, а «скотный двор» еще повышает его ценность (впрочем, среди муравьев есть и «скотоводы- кочевники»).
А что с социальным интеллектом, с развитием коммуникации? Тут все тоже как у людей. В литературе описан случай, когда огненные муравьи Solenopsis invicta, переселившиеся в США из Южной Америки, перешли на другую ступень социальности прямо на глазах у ученых, причем виной была всего одна мутация в гене, отвечающем за обоняние. (Муравьи общаются на языке запахов.) Это был переход с высшей ступени на низшую — от небольшого числа королев и территориального поведения к множеству королев в одной колонии и нежелании оборонять территорию, но нетрудно представить, как когда-то произошел обратный переход.
Таким образом, и у насекомых социальность возникает с кажущейся легкостью — но только потому, что отдельные виды получают предрасположенность к ней в ходе эволюции. Преследуя другие цели, они оказываются в правильном месте «лабиринта», и в какой-то момент скопище индивидов становится группой.
Этика, разум и правда
Рассказывая только об эволюции эусоциальности, мы пропустили немало интересного. В книге Уилсона обсуждается, например, такой вопрос: в какой мере культура генетически обусловлена, существует ли «ген-культурная коэволюция» и если да, то в какой форме? Или: насколько верно мнение, что нравствен и «нужен» только половой процесс, приводящий к рождению потомства, а любой другой секс — «животное начало», разврат либо проституция, то есть спаривание в обмен на материальные блага? (Мнение неверно: половой процесс, имеющий целью только размножение, — как раз прерогатива животных, а одно из важных отличий человека от них — появление той разновидности социальных связей, которую мы называем романтической или супружеской любовью и без которой наш вид не выжил бы. Эти связи ценны сами по себе — так говорят не только поэты, но и биологи-эволюционисты. Другое дело, что человек в силу своей противоречивой природы из любой хорошей вещи может сделать плохую.) Или: в какой мере великое искусство живописи определяется особенностями зрения человека и его мозга? И зачем наш вид сочиняет музыку — только ли для удовольствия?
Примечательно, что Эдвард Уилсон не призывает сбросить гуманитариев с корабля современности (хотя о религии высказывается резко, возможно, резче, чем в более ранних работах). Напротив, он предлагает объединить усилия гуманитариев и естественников в познании мира и человека.
«Теперь я признаюсь, в чем моя собственная слепая вера. В двадцать втором веке Земля, если мы того пожелаем, может стать вечным раем для людей или, по крайней мере, начнет становиться им. Мы еще много навредим самим себе и другим живым существам на этом пути, но этика элементарной порядочности по отношению друг к другу, безжалостное применение разума и признание, что мы есть мы, такие, как на самом деле, наконец позволит исполниться нашим мечтам», — этими словами завершается книга. Как и сама теория эволюции эусоциальности, она вызывает споры, и отнюдь не весь научный мир согласен с Уилсоном. Но прочесть ее стоит.
